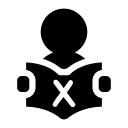Мне, выпускнику педагогического института, факультета иностранных языков будущее рисовалось не самыми яркими красками. Помотавшись с полгода в средней шкoле и поменяв несколько бесперспективных работ, я понял, что начинаю постепенно опускаться в какую то яму, из которой мне потом не выбраться. А жить хотелось так, как другие порядочные люди живут, чтобы обстановка и костюм были приличные, пища вкусная и питательная, — словом, чтобы все как следует. Грязь и бедность, постоянные мысли о том, как бы прожить месяц, — все это просто терзало меня. А жили мы в ту пору с мaмoй и сестрой в маленьком городке совсем бедно. Будущности никакой.  Так себе, живи впроголодь, носи старые шмотки и думай, как бы не износить ботинки раньше времени. Протекции у нас не было никакой, родственники всё жалкие, необразованные люди, знакомства мизерные… Подобная будущность пугала меня… За что пресмыкаться, глядя, как другие люди живут, как следует жить… Зачем же мне дали образование в институте? Лучше было бы и вовсе не учить меня. А ведь учился я на совесть, для знаний, а не для диплома. Гибнуть я не хотел…
Так себе, живи впроголодь, носи старые шмотки и думай, как бы не износить ботинки раньше времени. Протекции у нас не было никакой, родственники всё жалкие, необразованные люди, знакомства мизерные… Подобная будущность пугала меня… За что пресмыкаться, глядя, как другие люди живут, как следует жить… Зачем же мне дали образование в институте? Лучше было бы и вовсе не учить меня. А ведь учился я на совесть, для знаний, а не для диплома. Гибнуть я не хотел…
Отец (царство ему небесное) умер, нисколько не позаботившись о нас. Умер он, как и жил, в бедности (чтобы похоронить его сколько нибудь прилично, пришлось занять у людей), хотя по должности, какую он занимал, мог бы, как другие, обеспечить свое семейство.
Боже сохрани меня осуждать родителей, но я рассуждаю так: если человек обзаводится семьей, то его священный долг позаботиться о ней, чтобы не поставить кровных своих в безвыходное положение. И без того нищих довольно. Если не имеешь силы обеспечить семью, то не следует иметь детей.
Отец был очень странный человек, не в меру гордый и раздражительный, а мать, по слабости характера, не имела на него никакого влиянии. Иной раз она сделает сцену (когда уж очень изнашивались на нас одежда и обувь), затеет разговор насчет средств, но тотчас же и замолчит, встретив презрительный взгляд отца. Обыкновенно он как то перекашивал губу и, когда мать жаловалась на бедность, раздражительно отвечал:
— Воровать прикажешь?
Мать пробовала было заговаривать насчет одежды и башмаков наших, но отец с какою то усмешкой перебивал:
— Что они у нас, принцы мекленбургские, что ли? И в дырявых походят.
Мать умолкала, а отец, бывало, задумается и некоторое время спустя как то задумчиво промолвит:
— По крайней мере, дети отца добром вспомнят!
После таких сцен он особенно нежно ласкал меня и сестру, прижимал нас к своей впалой груди и долго вглядывался в наши лица. Потом, как мы подрастали, меня он реже ласкал и иногда загадочно так на меня глядел, словно я был для него загадкой и он за меня боялся. Сестру, напротив, очень баловал, по своему разумеется. Мне и завидно было и досадно, что папа совсем был непрактичным человеком. Уж какие тут принцы! В доме у нас постоянные недостатки, а он о принцах! Я, бывало, нередко беседовал на этот счет с матерью, но у нее, как у женщины, не было никакой выдержки.
Нужно было исподволь, осторожно, но как можно чаще касаться этих вопросов (капля точит камень), напирая преимущественно на родительские чувства (отец очень любил меня и сестру), а она вдруг разражалась упреками и слезами и вслед за тем, вместо того чтобы выдержать характер и показать недовольство, сама же просила извинения у отца. Разумеется, отец еще более упорствовал в своей гордости, полагая, что и мать с ним во всем согласна (это насчет средств). А она соглашалась с ним более по слабости. Сама, бывало, плачет втихомолку над нами, что мы несчастные и нищие, а поговорит с отцом — успокоится. Никакой не было выдержки у матушки!
Про отца все говорили (и до сих пор говорят) как о честном человеке, но чудаке. Но от этих разговоров ни маме, ни мне легче не было. Если бы даже о папе говорили иначе, а у нас были бы средства, то все таки уважали бы нас более и нам не пришлось бы унижаться перед людьми…
Я только что после смерти отца получил аттестат зрелости, но об хорошем месте нечего было и мечтать. Разумеется, если б какие нибудь деньжонки, тогда место виднее можно было бы получить и жили бы мы прилично. Но и при папе то мы бедствовали, а как скончался он — доктор сказывал, от рака, — то дела наши и совсем расстроились. Надо было жить троим. Я оставался единственной поддержкой семьи.
И стал мне скоро наш городок ненавистен. И жители его тоже ненавистны. Мысль — сделаться самому порядочным человеком и сделать порядочными людьми мать и сестру — засела гвоздем в мою голову. Я решил, что это должно быть так, и с этою целью собирался ехать в Москву и там попробовать счастья и испытать свои силы… Мне шел двадцать третий год… Я был здоровым, крепким молодым человеком и, как говорили местные студентки, далеко не уродом… «Неужели ж я не пробьюсь?» — думалось мне, и надежды, одна другой розовей, щекотали мои нервы… Ведь многого я не требую от жизни. Я желаю только приличного существования. Я хочу жить, как люди живут, — вот и все. И я буду так жить! — не раз повторял я себе, лелея эти мечты, как цель моей жизни.
Мой план для начала был таков. Найти себе место репетитора повышенных требований, а там куда кривая американской мечты выведет. Разговорный английский язык я знал отлично и также понимал, как его следует преподнести для скорейшего усвоения. В наш век высоких технологий, разыскать удобный вариант было не так уж и сложно. Я начал просматривать в интернете наиболее подходящую вакансию, презрительно отсевая объявления с малым окладом.
Через два дня я определился. Позвонил по телефону и мы договорились выйти в скайп для более тщательной беседы. Мужчину я уверял в хороших знаниях и готов был пройти любую проверку. Он пригласил меня в Москву к 14.00 для согласования договора. Жили мы в четырех часах на электричке от столицы.
На другой день, в восемь часов утра, я занялся туалетом с особенною тщательностью и выехал из своего города. В Москве на метро добрался по нужному адресу и подошел к частному зданию, окруженному высоким металлическим забором. Мне отворил какой то охранник и представившись он пустил меня во двор. Через минуту я был введен в большой кабинет, уставленный шкафами с книгами и изящной мебелью, обитой зеленым сафьяном. За письменным столом, стоявшим среди комнаты, сидел господин Рязанов, небольшого роста, некрасивый, коротко остриженный брюнет лет сорока, в утреннем сером костюме. При моем появлении он отодвинул в сторону ноутбук и поднял на меня небольшие черные глаза, зорко и умно глядевшие из под очков. Проницательный взгляд этих глаз скрадывал некрасивость лица, придавая ему умное выражение.
— Очень рад видеть вас, Роман Антонович! — проговорил он, чуть чуть привставая и протягивая руку. — Садитесь, пожалуйста!
Я сел в кресло у стола и приготовился слушать.
— Вы были бы не прочь ехать на лето в деревню в качестве репетитора?
— Да, я ищу занятий. Но хотел бы работать в Москве, чтобы не быть далеко от дома.
Рязанов помолчал, оглядывая меня своим зорким взглядом, и наконец продолжал:
— У меня в Краснодарском крае есть дом для проживания на летних каникулах. Там живут местные, которые следят за хозяйством, готовят, помогают по саду. Это далековато отсюда, но вы сможете навещать своих близких, если пожелаете.
— Хорошо, в конце концов это не имеет большого значения, где работать, если мы поедем на все лето.
— Сын мой, мaльчик восемнадцати лет, — продолжал Рязанов, — к сожалению моему, несколько ленив и в шкoле не очень бойко учился, так что ему надо хорошенько призаняться летом, я собираюсь возить его заграницу и знание языка обязательно, вместе с некоторыми общими дисциплинами.
— Я все понял, если мaльчик желает получить знания, он научится говорить.
— В случае удачных исходов, я готов дополнительно премировать вас за занятия.
Я, разумеется, согласился и поклонился.
— На вас я смотрю с большой надеждой и считаю излишним пояснять, что только отличный диплом и подтвержденные навыки относительно вашего направления заставляют меня поручить вам занятия с сыном. — Надеюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, Роман Антонович?
Я ответил, что «обижаться нечем» и что понимаю, как трудно найти подходящего человека.
— Совершенно верно. Я ни за что бы не пригласил к сыну молодого человека, особенно такого молодого, как вы, к которому бы не питал доверия. Нередко молодые люди, быть может и совершенно искренно, бросают в головы детей семена, которые впоследствии дадут печальные всходы. К несчастию, многое в нашей жизни способствует этому и как бы подтверждает нелепицу, которой пичкают непризванные учителя детские головки.
Господин Рязанов остановился на секунду, поправил очки и продолжал:
— Я, Роман Антонович, очень люблю сына, и вы поймете, почему я позволил себе обратить ваше внимание на те трудности, которыми обставлены родители. Я буду просить вас, Роман Антонович, обо всех щекотливых вопросах, которые может предложить мaльчик, сообщать мне. Мой мaльчик очень нервный, и с ним надо быть осторожным. Мы общими силами будем отвечать ему на щекотливые его вопросы. Мне бы хотелось, и, насколько в моих силах, я постараюсь достичь, чтобы из мaльчика вышел трезвый, разумный слуга отечеству, — продолжал господин Рязанов взволнованно, — понимающий, что надо довольствоваться возможным, а не стремиться к невозможному. Надо уметь делать уступки. Надо жить, а не питаться фантазиями.
Я слушал господина Рязанова с удовольствием. Его речь находила во мне полный отклик. Он словно повторял все то, о чем я часто и много думал и что заставляло меня идти, не сворачивая в сторону, по избранной мною дороге. Я не знал еще в то время, как господни Рязанов добился своего положения, — пробивал ли он свою дорогу, как он выразился, «горбом» или нет, но, во всяком случае, он был тысячу раз прав, когда говорил, что «жить надо, а не питаться фантазиями».
Должно быть, господин Рязанов заметил благоприятное впечатление, произведенное на меня его словами, потому что, окончив свою речь, он мягко заметил:
— Ну, теперь поговорим об условиях, Роман Антонович!
На этом пункте мы скоро сошлись. Он предложил мне семьдесят пять тысяч рублей в месяц.
— Вот сейчас познакомтесь с сыном, — проговорил Рязанов и позвонил.
Через несколько минут в кабинет вошел мaльчик, лицом похожий на отца. То же некрасивое лицо и те же умные, черные глаза, но только сложения он был нежного, и взгляд его был какой то задумчивый.
Рязанов с любовью поцеловал сына и, знакомя меня с ним, проговорил:
— Вот, Володя, твой yчитeль на лето, Роман Антонович. Он был так добр, что согласился помочь тебе заниматься.
Володя протянул худенькую руку, взглянул на меня своим задумчивым взором и ничего не сказал.
— Мама встала? — спросил отец.
— Нет, спит еще, — отвечал Володя.
Мальчик скоро вышел из кабинета, и Рязанов проговорил:
— Володя, как вы, вероятно, заметили, слабого здоровья. Кроме того, он очень нервный мaльчик. Впрочем, вы сами это увидите. Так уж, пожалуйста, Роман Антонович, берегите его и не позволяйте ему слишком много заниматься. Да пишите мне, как он учится. Я в деревню теперь не поеду; месяц или два вы проживете без меня. Я могу приехать только в августе. Жена собирается через неделю. Вы можете быть готовы к отъезду к этому времени?
— Могу.
— Ну, отлично, а сегодня милости просим к нам обедать в пять часов. Кстати, вы покороче познакомитесь с женой, и затем мы окончательно решим день отъезда.
Когда я снова пришел к пяти часам к Рязановым, госпожа Рязанова встретила меня довольно приветливо и, оглядывая меня, казалось, осталась довольна, что у них в доме будет yчитeль, приличный на вид.
Она сказала несколько любезных слов, выразила надежду, что я не буду скучать в деревне, и, как кажется, ничего не имела против выбора мужа. Это была женщина лет двадцати шести еtаlеs.ru или семи, красивая, статная, видная брюнетка, с бойкими карими глазами и изящными манерами, в которых проглядывала избалованность капризной женщины, привыкшей к поклонению.
За обедом господин Рязанов казался совсем не таким, каким был в кабинете. Перед женой он как то притихал, бросая на нее беспокойные взгляды, полные любви и нежности. А она как будто не замечала их и капризно делала мины, когда господин Рязанов в чем нибудь не соглашался с ней. Нельзя было не заметить тотчас же, что эта барыня — избалованное существо и в доме играет первую роль. С мужем она была снисходительно любезна и, казалось мне, холодна. За обедом она два раза меняла дни отъезда и наконец решила, что уезжает через восемь дней.
— Это решение, надеюсь, последнее? — ласково пошутил Рязанов.
Рязанова сделала недовольную гримасу и ответила:
— Последнее!
Володя кинул на нее быстрый взгляд, в котором нельзя было заметить привязанности…
Через восемь дней взяв с собой старый ноутбук, телефон, зубную щетку и бритвенный станок я поехал на Курский вокзал (лететь на самолете никто не захотел), и уже застал там все семейство Рязановых: мужа, жену, сестру жены — пожилую даму, племянницу господина Рязанова — девушку лет шестнадцати, и Володю.
Рязанов был какой то сумрачный и недовольный. Он сидел около жены и что то говорил ей, но она, казалось, не очень то внимательно его слушала и продолжала разглядывать публику.
Когда я подошел к группе, Рязанова оглядела меня с ног до головы, кивнула головкой и сухо проговорила:
— Наконец то! Мы думали, что вы опоздаете.
Рязанов любезно протянул свою руку и сказал:
— Напрасно ты конфузишь молодого человека: еще полчаса времени до отхода поезда.
Затем он представил меня своей свояченице и племяннице и, отводя в сторону, проговорил:
— Смотрите же, Роман Антонович, пишите мне, как занимается Володя. Пишите чаще, — обронил он.
Я обещал писать о сыне, и мы подошли к группе.
Рязанова пристально взглянула на меня, отвела взгляд и как то странно пожала плечами, взглядывая на своего осоловевшего мужа.
Пора было садиться в вагоны. Рязанова поднялась с места, а за нею вся остальная компания с мешками, баулами и сумками. Мне тоже дали нести маленький саквояж. Муж и жена пошли вместе и оживленно заговорили. Я шел недалеко от них, и до меня доносились звонкий смех Рязановой и веселый голос мужа. На платформе Рязанов не имел уже мрачного вида. Напротив, он был доволен и весел и не отходил от жены. Как видно, она умела по своему желанию менять его настроение.
Для семейства Рязанова было отведено особое купе, в котором и разместилась дамская компания. Рязанова, однако, находила, что тесно, и сделала гримасу, так что муж беспокойно взглянул на нее. Впрочем, когда поставили к месту все чемоданы и баулы, то оказалось, что «ничего себе».
Мое место было в соседнем вагоне. Я занял место у окна и вышел из вагона наблюдать за Рязановыми, к которым бросила меня судьба. Рязанов мне очень нравился, а сама она казалась капризной и избалованной женщиной, которой, пожалуй, трудно будет понравиться.
— Уж вы, Роман Антонович, будьте так добры, навещайте изредка дам и вообще не оставляйте их в дороге! — любезно просил меня Рязанов, оборачиваясь ко мне.
— Непременно.
— Не пугайтесь просьбы мужа! — вставила Рязанова. — Вам не придется очень хлопотать с нами. Мы привыкли путешествовать.
Я взглянул на барышню. Она была необыкновенно изящна в коротком дорожном платье, плотно облегавшем красивый ее стан и не скрывавшем маленьких ножек, обутых в ботинки на толстой подошве, с сумкой через плечо и в соломенной шляпе, надетой почти на затылок. Она была такая свежая, красивая, статная. Все на ней было изящно и просто. Тонкая струйка душистого аромата приятно щекотала нервы, когда она стояла близко. На подвижном лице ее играла приветливая, довольная улыбка выхоленной женщины, сознающей свою красоту и силу. Теперь она отвечала ласковым взглядом на взгляды, полные любви, бросаемые на нее мужем. Он, казалось, сам расцветал под ее взглядом, тихо разговаривая с ней.
Рязанов поцеловал жену, горячо обнял сына.
— Смотри, Леонид, скорей приезжай! — говорила Рязанова из вагона.
— Ты знаешь, Елена, как бы я хотел скорей быть с вами!… Быть может, в конце июля вырвусь…
— Приезжай, папа! — крикнул сын.
— Приеду, приеду. Кланяйся, Володя, Никите… Твой пони ждет тебя! Ты, Елена, пожалуйста, не рискуй… Не садись на Опала, пока его не выездят… С кем ты будешь ездить? С Андреем? Да скажи, пожалуйста, Никите, чтобы он написал мне… Ну, Христос с вами… Прощайте! Прощай, Елена, до свидания, Володя… Поправляйтесь, Мария… Не шали, Верочка!..
Рязанов приветливо махал шляпой, махнул и в мою сторону. Поезд тихо двинулся.
Дорогой я изредка подходил к Елене Александровне, осведомляясь, не могу ли я быть чем нибудь ей полезен, но она любезно благодарила и говорила, что ей не нужно ничего. На следующий день вечером мы вышли на станцию, где заказали микроавтобус, чтобы ехать в деревню. Елена Александровна была не в духе. Она суетилась и жаловалась на усталость. Совершенно напрасно она сделала замечание Володе, и, обратившись ко мне, раздражительно сказала:
— Пожалуйста, поскорей, Роман Антонович… Как там вещи?… Помогите, не стойте сложа руки!
Я ни слова не ответил на ее выходку… Да и что сказать? Ясно, она глядела на меня, как на «учителя», который, по ее понятиям, почти приравнивался к прислуге.
Мне пришлось ехать сзади вперемешку с багажом. Всю дорогу я молчал и злился.
Прелестный уголок был Ильское, куда мы приехали. Огромный особняк стоял в тенистом саду с многочисленной экстравагантной растительностью и экзотическими цветниками. Сад тянулся к маленькой быстрой речке, шумевшей по камням… За речкой шли поля с черневшими сельскими избами.
К строению прилегали гараж и небольшая конюшня. Хозяева держали несколько ездовых лошадей. Дом содержался в порядке и чистоте. Мне отвели прекрасную комнату на втором этаже с балконом в сад. Классная комната была внизу.
С следующего же дня я начал занятия с мaльчиком. Он занимался недурно, но был рассеян. Задумчиво глядел он большими черными глазами во время уроков и вздрагивал, когда я обращался к нему с вопросами. Со мной он был ласков, но, казалось, я ему не особенно нравился; он никогда не рассказывал мне, что волнует его ребячью голову и о чем он так задумывается; никаких щекотливых вопросов не задавал.
Жизнь в деревне потекла однообразно. Я рано вставал и ходил гулять, потом пил кофе у себя в комнате, затем часа два мы занимались с мaльчиком; остальное время было в полном моем распоряжении. Завтракали и обедали по звонку. Я спускался к завтраку и обеду и скоро уходил наверх, к своему ноуту. Пробовал найти их страницы в соц. сетях, но профили были с ограниченным доступом. Меня не удерживали внизу и не стесняли. Я держал себя в стороне, обмениваясь короткими фразами с членами семейства.
Елена Александровна в деревне казалась еще красивее, чем в городе. Румянец играл на ее щеках, и она, всегда изящно одетая, свежая, веселая, вела в деревне деятельную жизнь. По утрам беседовала с конюхом Никитой Алексеевичем, умным, плутоватым мужиком, читала и загорала у речки, а после обеда устраивала общие прогулки и катания.
Как то, слоняясь по местности и, намереваясь освежиться в воде, я оказался неподалеку от них, отдыхавших на берегу, в сопровождении остального семейства и подошел поближе. Взгляду предстала потрясающая картина. Она лежала на животе, без топа, подставляя нежную кожу под безжалостно палящее солнце. На ней были одеты одни только стринги, открывая взору чудесную попку. Сочную и подтянутую, дивно расширяющуюся от тонкой, гибкой талии и переходя в две соблазнительные половинки. Изредка она поднимала голову, осматривая окрестности. В этот момент у нее был необыкновенно гордый вид и голая попка. А может, как я стал про себя говорить: голый вид и гордая попка. «Нет, лучше не смотреть. Но и не смотреть тоже нельзя. « — подумал я. — «Надо убираться отсюда. « Заметив меня, она поморщилась и попросила подать ей полотенце, заворачиваясь в него и садясь на покрывало. Увидев мои жалкие попытки сохранять самообладание, она проводила меня насмешливым взглядом, когда я уходил. С тех пор я не собирался там появляться, купаясь в другом месте.
Через неделю они уехали к морю, пожить в пятизвездочных отелях. А мне, оставшись одному, вздумалось поучиться кататься на лошадях, не теряя времени даром. Рядом с нами находился прокатный конный двор, но сходив туда прикинул, что все таки для меня это будет дороговато. А когда возвращался, меня окликнул конюх и мы с ним разговорившись, неплохо закорешились. Он рассказал мне о здешних обитателях и нравах. Володя был сыном от первой жены Рязанова. От второй жены, «породистой кобылки» детей не было. Он предупредил меня, что Рязанова взбалмошная бабенка и держит мужа в руках. А потом позволил мне кататься на наших лошадях даром, пока хозяев никого нет.
После их приезда все потекло по такому же порядку.
Меня никогда не приглашали принять участие в послеобеденных развлечениях, и я, признаться, был очень рад этому, так как Рязанова продолжала держать себя со мной с любезной сухостью и, казалось, боялась допустить меня стать с членами семейства на равную ногу. Меня, очевидно, третировали как учителя, бедного молодого человека совсем другого круга, которому место не в порядочном обществе. Все члены семейства смотрели Елене Александровне в глаза. Когда она бывала в духе за обедом, все весело шутили и смеялись; но чуть Елена Александровна капризно поджимала губки, хмурила брови и пожимала плечами — все притихали. Старшая ее сестра, немолодая и болезненная женщина, беспокойно взглядывала на нее, подросточек-племянница, бойкая шкoльница, опускала свои быстрые глазки на тарелку. Один только пасынок не разделял общего поклонения. Он очень сдержанно относился к мачехе и, по-видимому, не очень-то ее любил. И она не выказывала большой привязанности к нему, была с ним ласкова, ровна, но между ними теплых отношений не было… Общее поклонение, которым окружали эту барыню, она принимала как нечто должное… Избалованная вниманием, она, казалось, и не могла подумать, чтобы к ней могли относиться иначе. За обедом, отлично сервированным, обильным и вкусным, она изредка обращалась ко мне с двумя-тремя фразами, как бы желая осчастливить учителя, и часто, не дожидаясь ответов, обращалась к другим, не обращая на меня ни малейшего внимания. Понятно, это оскорбляло меня, но я не показывал вида и держал себя сдержанно и скромно, не вмешиваясь в разговор и отвечая короткими фразами, если со мной заговаривали.
Первое время Рязанова была весела. Каждый вечер до меня доносились из сада веселый ее смех и болтовня. Она ежедневно каталась верхом и, возвратившись, вечером садилась за рояль и пела. У нее был приятный контральтовый голос, и я нередко, сидя один на балконе, заслушивался ее пением. В такие вечера мне делалось тоскливо… Злоба и тоска подступали к сердцу, и я особенно чувствовал, как нехорошо быть бедным и незначительным человеком… Посмотрел бы я, так ли со мною обращались, если бы я не был скромным молодым человеком, нанятым в качестве учителя! Прошло две недели, и Рязанова стала хандрить, капризничать и раздражаться. Все было не по ней. За обедом она придиралась к сестре, к племяннице, распекала слуг и делала замечания Володе, нисколько не стесняясь моим присутствием. Все сидели молча и с трепетом ждали, когда Елена Александровна успокоится. Меня смешил этот трепет, особенно смешила сестра Рязановой, которая глядела на свою младшую сестру с благоговейным восторгом. Однажды во время обеда, когда Елена Александровна особенно капризничала, я взглянул на нее и улыбнулся… Она поймала мой взгляд и изумилась, так-таки просто изумилась. Прошло мгновение. В глазах ее мелькнула злая улыбка, но она перестала капризничать и до конца обеда просидела молча.
«Черт меня дернул смеяться! — думал я, досадуя на себя, что так опростоволосился. — Пожалуй, она мне не простит улыбки, позвонит мужу и… прощай мои надежды…»
Но, к удивлению моему, на другой день она была со мной гораздо любезнее и после обеда, когда, по обыкновению, я хотел уходить, заметила:
— Ну, что, довольны вы своим учеником?
— Доволен.
— И писали об его занятиях мужу? — спросила она с едва заметной улыбкой.
— Нет, еще не писал.
— Вы напишите. Леонид Григорьевич так любит Володю, что отчет об его занятиях обрадует его. Ну, а сами вы довольны деревенской жизнью?..
— Очень.
— И не скучаете?
— Нет.
— А мне все казалось, что вам должно быть скучно. Вы все сидите у себя наверху и никогда не гуляете.
— Я гуляю.
Разговор не завязывался. Она пристально взглянула на меня и вдруг как-то странно улыбнулась, точно красивую ее головку осенила внезапная мысль.
— Куда же вы? Мы сейчас едем кататься. Хотите? — проговорила она.
Я вспыхнул от этого неожиданного приглашения. Она взглянула на меня, уверенная, что осчастливила несчастного учителя. Явился каприз пригласить его, и он, бедненький, смутился от восторга.
— Благодарю вас, но я бы лучше остался дома. Я хотел пешком идти в лес.
— Не хотите?… — изумилась Елена Александровна. — Как хотите!
Она повернулась и ушла на балкон.
Дурное расположение ее продолжалось. Елена Александровна хандрила. Гостей никого не было, а если бывали, то не интересные — какой-то допотопный сосед с женой и дальние родственники Рязановой. Рязанова, видимо, скучала. Она по целым вечерам каталась верхом и, возвратившись усталая, распускала волосы и лениво прилегала на оттоманку, заставляя подростка играть на рояле.
— Ах, Верочка, ты не так играешь! — доносился снизу ее голос. — Разве можно так барабанить Шопена?
Она садилась за рояль, и рояль начинал петь под ее пальцами. Капризные, страстные звуки доносились до меня. Я выходил на балкон и жадно слушал.
Обыкновенно она скоро переставала, уходила в сад, и долго в тени густого сада мелькал ее светлый силуэт.
Со мной она стала любезней, оставляла меня после обеда «посидеть» и иногда спускалась до шутки.
Хозяйка, видно, со скуки не прочь была даже пококетничать с учителем. Это я очень хорошо видел и держал себя настороже. Ей забава, а мне может кончиться плохо. С одной стороны — капризная бабенка, а с другой — ревнивый муж.
О ревности его я уже догадывался из разговоров, которые вели иногда между собою сестры, смеясь, что они живут в деревне, запертые «Синей бородой».
Наступил июль.
Я не просиживал уже букой наверху, а проводил большую часть времени внизу с дамами, гулял вместе, учил говорить на английском, ездил иногда верхом вместе с Еленой Александровной и держал себя с почтительной скромностью тайно вздыхающего по ней молодого человека. Это, заметил я, Рязановой нравилось. Я робко иногда взглядывал на молодую женщину и, когда она вскидывала на меня взор, тотчас же опускал глаза, как бы смущенный, что она заметила. Приютившись где-нибудь в уголке, когда Рязанова играла на фортепиано, я задумывался, и, когда она спрашивала о причинах моей задумчивости, я вздрагивал и отвечал, как будто застигнутый врасплох. А она как-то весело усмехалась и, казалось, принимала мое почтительное ухаживание снисходительно, как маленькое развлечение от деревенской скуки, тем более что она не допускала и мысли, чтобы скромный yчитeль смел когда-нибудь обнаружить чувства, волнующие его.
Меня интересовала эта игра, я с затаенной улыбкой смотрел, как эта капризная, избалованная женщина, самоуверенная, гордящаяся своей красотой, снисходила к скромному молодому человеку, уверенная, что он тайно влюблен в нее и что достаточно одного ласкового слова с ее стороны, чтобы осчастливить его. И Рязанова иногда дарила меня этим счастьем! Она бросила прежний тон и сделалась ровна, ласкова, покровительственно-ласкова. Ей, кажется, было забавно и весело видеть молчаливого и застенчивого учителя (она считала меня застенчивым), робко поднимающего на нее глаза и как-то осторожно отодвигающегося от нее, когда она удостаивала присесть рядом. она иногда брала меня с собой верхом, и мы носились как бешеные вдвоем по лесу.
Сестра Елены Александровны, познакомившись со мной поближе, была необыкновенно ласкова. Эта добрая, больная женщина, вечно с удушливым кашлем, жалела «молодого человека, разлученного с семьей», расспрашивала о матери и сестре с женским участием и за завтраком и обедом хлопотала, чтобы я больше ел, и по нескольку раз приказывала подавать мне блюда. Все принимали меня за скромного тихоню, и я, разумеется, не стал разуверять их. Только подросток-школьница да Володя как-то сухо относились ко мне и редко со мной разговаривали; ну, да это меня не заботило. Мальчик занимался очень хорошо; я написал два письма Рязанову об его успехах и получил от него в ответ благодарственное письмо. После оказалось, что Елена Александровна отозвалась ему обо мне очень лестно, как о скромном молодом человеке, не похожем на обыкновенных учителей-студентов.
Ко мне в Ильском мало-помалу так привыкли, что, когда я после обеда долго засиживался наверху, за мной посылали, и Елена Александровна капризно спрашивала:
— Что вы там делаете, Роман Антонович? Мы ждем вас, хотим заниматься!
Я вставал у проектора, в то время как дамы внимательно слушали, а Верочка вертелась на стуле, вызывая строгие взгляды тетки.
Был прекрасный июльский вечер. Дневная жара только что спала. В воздухе потянуло приятной свежестью и ароматом цветов и зелени. Все ушли гулять. Елена Александровна осталась дома; ей нездоровилось, и она просила меня поговорить с ней на английском.
Она сидела на балконе, в легком черном неглиже, с распущенными волосами, протянув ноги на подушки, и слушала простую речь, изредка отвечая на вопросы. Когда я закончил, Елена Александровна задумчиво глядела в сад, играя махровой розой.
Я встал, чтобы уйти, но она остановила меня:
— Куда вы? Посидите.
Мы молчали несколько минут. Я смотрел на нее. Она заметила мой взгляд и улыбнулась.
— Нравится вам лето в этом году? — спросила она.
— Да, — ответил я. — Мне кажется, пасмурных дней было очень мало. И…
— А как бы вы хотели его провести для себя? — перебила она.
— Больше быть на свежем воздухе и есть сезонные ягоды и фрукты.
Она усмехнулась.
— Не жаль, что скоро все закончится и опять наступят холода? — спросила Елена Александровна.
Она поднялась с кресла, прищуриваясь, как хитрая лиса, взглянула на меня и весело заметила:
— Какой еще вы юный мaльчик! Вам сколько лет?
— Двадцать три! — серьезно проговорил я.
— Двадцать три! Как много! — пошутила она над моим серьезным ответом.
Она тихо усмехнулась и вышла с балкона, забыв на столе цветок, который держала в руках.
Не прошло и минуты, как она вернулась. Я быстро отдернул розу от своих губ и казался смущенным. Она взглянула, усмехнулась и не сказала ни слова. Я сидел, опустив голову, точно виноватый. Меня забавляла игра с этой кокеткой — забавляла и наполняла сердце каким-то злорадством. Мне нравилось, что она верит; мне приятно было, что эта красивая, эффектная женщина, сперва третировавшая меня, как прислугу, теперь держит себя на равной ноге и даже намекает о своей неудавшейся жизни с мужем. Конечно, она бесилась, что называется, с жиру, вообразила о своем несчастии от скуки. Сытая, богатая, окруженная общим поклонением, не знавшая, куда девать время, — мало ли каких глупостей не лезло ей в голову? А тут, под боком, молодой, свежий и, по совести сказать, далеко не уродливый малый, не смеющий поднять глаз на яркую красотку и втайне по ней страдающий. Положение интересное для такой милой бездельницы, как она! Можно поиграть, позабавиться, пощекотать нервы двадцатитрехлетнего «мальчика» крепким пожатием, нежным взглядом, тонким, опьяняющим ароматом, которым, казалось, было пропитано все ее существо; пожалуй, пощекотать и свои нервы и потом забыть, как прошлогодний снег, несчастного учителя и с веселой усмешкой рассказывать какой-нибудь подобной же бездельнице-подруге, как смешон был этот простак, осмеливавшийся робко вздыхать и вздрагивать в присутствии красавицы.
Если я поступал неискренно, то у меня по крайней мере было оправдание. Я хотел ей понравиться, чтобы через мужа добиться положения, а она… Что оправдывало эту барышню, пленительную девушку двадцати шести-семи лет?
Что заставляло ее как бы нечаянно наклоняться в коротком платье, сверкая кружевными трусиками, опираясь руками о мебель или ограждение, поправляя обувь или поднимая упавшую вещь перед «скромным мaльчиком», заставляя его вздрагивать не на шутку?
Заметив мое смущение, Елена Александровна приблизилась ко мне и тихо проговорила:
— Что это вы задумались и повесили голову? Верно, деревня уже надоела вам и вам хочется скорей в город? Кстати, извините за вопрос, вы знаете, женщины так любопытны, — добавила она, смеясь, — почему вы решили не ездить к себе домой?
— Я созваниваюсь с матерью каждую неделю.
— Советует, верно, не скучать в деревне?
— Я не скучаю!… — прошептал я.
— Не лгите!… Какое же вам веселье здесь? Вот, впрочем, скоро приедет муж, и тогда вы будете с ним на рыбалку ездить. Вы рыбачите?
— Рыбачу.
— Все веселее будет! — подсмеивалась она. — Не правда ли?
Я поднял на нее глаза. Она стояла такая веселая, свежая, блестящая и так кокетливо улыбалась. Я пристально и смело посмотрел на нее, и вдруг лицо ее изменилось. Куда девалась кокетливая ласковая улыбка! Она нахмурилась и взглянула на меня строгим, надменным взглядом, точно наказывая меня за смелость, с которою я взглянул на нее, и показывая, какое огромное расстояние разделяло меня от нее, Елены Александровны Рязановой, супруги Леонида Григорьевича Рязанова, успешного бизнесмена и видного чиновника.
Она ушла с балкона, не проронив ни слова и не дожидаясь ответа на свой вопрос, села за рояль и долго играла в темной зале, играла порывисто, бурно, словно бы негодуя на что-то.
Я сидел, прижавшись в углу, и слушал.
Она оборвала резким аккордом какую-то бравурную арию, вышла на балкон и, облокотившись на перила, перегнулась станом, глядя в темневшую глубь сада. Ее стройная фигура резко выделялась в темноте, пикантно подчеркивая женские изгибы. Она простояла долго, не оборачиваясь, и, проходя назад, повернула голову в мою сторону и проговорила строго:
— Вы еще здесь? Подите, пожалуйста, взгляните, не идут ли наши? Уже поздно!
Скоро пришли все с прогулки и сели за чайный стол. Елена Александровна была не в духе; зато сестра ее Марья Александровна, по обыкновению, пододвигала мне хлеб и масло, удивлялась, что я мало ем, и спрашивала, отчего я такой скучный.
— Верно, матушку давно не видели? — заметила она ласково.
— Да, — отвечал я.
Елена Александровна подняла на меня глаза, и, показалось мне, усмешка пробежала по ее губам.
«Смейся, смейся! — думал я. — Смейся, сколько тебе угодно!»
Первые дни после этого вечера Елена Александровна выдерживала свой строгий тон и почти не говорила со мной, думая, конечно, что наказывает меня за дерзость, обнаруженную мной несколько дней тому назад, но через несколько дней она смягчилась и стала любезней. Ее точно забавляло дразнить меня, и она нередко меняла обращение: то была любезна, кокетлива, внимательна, то вдруг снова третировала меня с небрежностью гордой хозяйки и даже бывала дерзка, так что Марья Александровна не раз пожимала плечами и с укором шептала, взглядывая на сестру впалыми большими глазами. Раз я даже слышал, притаившись в саду, как Марья Александровна допрашивала сестру:
— За что ты так притесняешь бедного Романа Антоновича? Ты иногда бываешь просто невозможна с ним.
— Будто?
— Он прекрасный молодой человек. Такой скромный, такой внимательный и, кажется, несчастный! За что такое обращение?
— Уж не нравится ли он тебе? — И Елена Александровна залилась смехом. — Ты так горячо его защищаешь.
— Что за вздор! Как тебе не стыдно говорить глупости? Мне просто жаль его. Я удивляюсь, как еще он выносит твое обращение.
— Еще бы! — как-то самоуверенно сказала она. — Смел бы не выносить!..
— Ты просто взбалмошная женщина! — с сердцем проговорила сестра.
— Может быть; только напрасно ты так жалеешь этого… сурка. Он вовсе не так скромен, как кажется. Карие его глаза часто бегают, как мышонки. Ну, да бог с ним!
И разговор сестер смолк.
Я слушал и негодовал. Желая как то изменить ситуацию. Но как?
Я стал реже спускаться вниз. Когда Елена Александровна приглашала меня «поскучать вместе», я отговаривался спешной работой по переводу, которую будто бы должен приготовить в срок. Рязанова пристально взглядывала на меня, точно изумляясь моему стоицизму. Ей хотелось продолжать шалить, а я настойчиво уклонялся. Она стала капризна и раздражительна. Очевидно, ей было скучно. Целую неделю я выдержал добровольное затворничество, и когда Рязанова, недоверчиво улыбаясь, спрашивала: «А вы все работаете?» — я отвечал, что «все работаю».
Однажды после обеда Марья Александровна с Верочкой и Володей собрались на озеро смотреть рыбную ловлю. Звали Рязанову, но она сказала, что поедет кататься верхом, и приказала седлать Опала.
— С кем же ты поедешь? Опять одна?
— С кем? — переспросила она и прибавила: — Роман Антонович меня проводит.
Марья Александровна с укором взглянула на сестру. Действительно, тон Рязановой был небрежен и резок.
— Но, быть может, Роман Антонович не может. Он заканчивает работу…
— Он, верно, закончил! — проговорила Рязанова. — Хотите провожать меня? — повернулась она вдруг ко мне, окидывая быстрым ласковым взглядом, резко отличавшимся от небрежного тона ее слов.
— С большим удовольствием!
Марья Александровна пожала плечами, видя, как безропотно я согласился, а Верочка и Володя даже сердито взглянули, изумляясь покорности и безответности перед этим небрежным приказанием.
Рязанова взглянула на сестру с усмешкой, точно хотела сказать: «Видишь, какой он послушный!»
Марья Александровна с детьми уехала на озеро, а мы выехали на дорогу и тотчас же свернули в лес, большой густой лес, тянувшийся километров на пятнадцать.
Сперва мы ехали шагом, молча. Елена Александровна была серьезна. Я искоса взглядывал на всадницу: она была очень хороша в своем наряде; штаны для верховой езды, а поверх красная клетчатая блузка без рукавов и ковбойская шляпа. Стройная, изящная, красивая, блестевшая под лучами солнца, она прекрасно сидела на красивом коне и точно чувствовала, что ею любуются.
— Ну, не отставайте от меня! — проговорила она, подтянула поводья, взмахнула хлыстиком, пустила лошадь рысью, потом в галоп и понеслась по лесу.
Мы скакали по лесной дороге, среди густой чащи деревьев, сквозь которую едва пробивалось солнце. В лесу было свежо и несло смолистым ароматом. Рязанова неслась впереди как бешеная, подгоняя лошадь хлыстом, когда Опал уменьшал бег. Я едва поспевал за ней; в моих глазах мелькало только красное пятно. Мы углублялись все дальше и дальше в чащу, а Рязанова все неслась как сумасшедшая… Наконец я стал отставать. Она обернулась назад, взмахнула хлыстом и скрылась из моих глаз…
Когда наконец я догнал ее, она ехала шагом, опустив поводья. Опал был весь в мыле, и она ласково трепала его благородную шею. Елена Александровна раскраснелась и прерывисто дышала… Глаза ее блестели и улыбались; полуоткрытые губы слегка вздрагивали.
— Благодарите меня, — проговорила она, смеясь, когда я подъехал к ней, — что я позволила вам догнать себя, а то бы ехали вы теперь один-одинешенек… Ах, как хорошо здесь… в лесу! — прибавила она, заворачивая лошадь в узкую тропинку, по которой едва можно было проехать двоим.
Она поехала вперед, я ехал сзади. Так ехали мы несколько минут. Наконец Рязанова обернулась:
— Что ж вы сзади?… Мне поболтать хочется…
Мы поехали рядом; наши лошади почти касались друг друга.
Она посмотрела на меня, улыбаясь какой-то странной улыбкой, и сказала:
— А вы все еще сердитесь?
— Я не сердился…
— Ну, ну, не сочиняйте, скромный юноша; точно я не знаю, что у вас никакой работы нет. Ведь правда? — шепнула она, нагибаясь ко мне. — Правда?
— Правда! — еще тише проговорил я.
— То-то! Ведь я все вижу, — сказала она и засмеялась.
Тон ее был особенный: ласковый и в то же время резкий. Она глядела на меня каким-то загадочным, странным взглядом, продолжая улыбаться. Я начинал проваливаться в невидимые сети ее женственности, которыми она постепенно окутывала меня. Казалось, между нами не было теперь никаких преград, и я свободно любовался ее высокой грудью, ее нежным профилем, ее королевской осанкой. Близость гибкого тела казалась доступной и упоительной.
Мы все подвигались вперед. В лесу было так хорошо и свежо. Только треск под копытами сухого валежника нарушал торжественную тишину леса. Впереди, на полянке, показалась маленькая полуразвалившаяся изба, густо заросшая вьющимся хмелем.
— Я устала. Отдохнем здесь! — проговорила Рязанова.
Я спрыгнул с лошади и помог ей сойти. Когда я обхватил ее стан, руки мои вздрагивали.
Я привязал лошадей. Елена Александровна вошла в избу и присела на лавке у окна.
— Тут прежде лесник жил, — заметила она и задумалась. — А вы что стоите? Садитесь! — резко сказала она.
Я сел около, молча любуясь ею. Она облокотилась на окно и глядела в лес, вся залитая багровыми лучами заходившего солнца. Я любовался ею и видел, как тяжело вздымалась ее грудь, как вздрагивали ее губы.
— Что же вы молчите? — повернула она свою голову. — Говорите что-нибудь… Посмотрите, как хорошо здесь!
Но что я мог сказать?
— Какой вы… смешной! Что вы так смотрите, а? Говорите же что-нибудь, а то вы так странно молчите! Ну, рассказывайте, отчего вы так сердились на меня? Теперь не сердитесь, нет? — говорила она странным шепотом, вовсе не думая о том, что говорит.
Я взглянул на нее. Она сидела, улыбаясь все тою же загадочной улыбкой, с полуоткрытыми губами. И вдруг она стала расстегивать блузку и обнажила грудь. Я бросился к ней и начал покрывать поцелуями. Поднял голову и она, увидев мой сияющий вид, подошла к подоконнику и села на него снимая обувь, а потом и нижнюю одежду, велев мне раздеваться. Меня затрясло как в лихорадке. Я очень торопился и засуетившись, не сразу понял как она хочет. Она поставила ступни на подоконник, а когда я подошел протянула на встречу руки и обняла меня. Я посмотрел вниз и направил свой изнемогающий член прямо в ее горячую темноту и скрестив руки за ее спиной начал быстро двигаться. Она тихо смеялась, замирая в моих объятиях.
«Что, теперь не смеешься?» — думал я, когда помогал ей садиться на Опала, толкая за попу. Она старалась не замечать меня.
«Еще бы! Когда глубину твоего затосковавшего влагалища проверил молодой член неопытный парня, отстрелявшись внутрь от нахлынувшей на него волны неизведанных чувств».
Мы ехали молча и расслаблено. Но скоро она погнала лошадь и помчалась из лесу как сумасшедшая. Я поехал один, оглушенный диким оргазмом, пытаясь осмыслить произошедшее. Когда я вернулся домой, Опала уже водили по двору.
На следующий день, встретившись за завтраком, Елена Александровна держала себя как ни в чем не бывало. Она сухо поздоровалась со мною и сказала несколько слов. С этого памятного вечера обращение ее сделалось еще суше и резче. Она редко говорила со мной, и если говорила, то небрежным тоном, третируя меня как несчастного учителя, что приводило добрую Марью Александровну в огорчение. Я редко оставался внизу и продолжал относиться к Рязановой с почтительной вежливостью учителя; мое обращение ей, видимо, нравилось.
Я уже подумывал, что она жалеет о том, что между нами было. Но через два дня она вновь предложила ее сопровождать. Мы поехали той же дорогой, обмениваясь ничего незначащими фразами. Я не знал что делать. И просто следовал за ней, стараясь ни о чем таком не думать. Но чем ближе мы подъезжали к избушке, тем сильнее замирало мое сердце, а между ног проскакивал приятный холодок… Мы подъехали и остановились. Спешившись, зашли внутрь. Она сразу начала раздеваться, снимая верхнюю одежду, призвав делать тоже самое. Опять она брала инициативу в свои руки. Честно говоря, я немного растерялся. Да что там, не смел подойти или хотя бы коснуться ее, стояв с приоткрытым ртом. Рассеянно расстегивая рубашку, я смотрел на нее. Но вот она уже совсем готова. Стоит, согнувшись в известном положении, в котором так часто дразнила меня, опершись руками о подоконник. Но теперь она не собиралась меня томить или испытывать, а эта влажная вульва, притягивающая голодные взгляды множества мужчин, пульсирующая от нетерпения предназначалась для меня. Мгновенный стояк привел меня в чувство. Быстро раздевшись я подошел и помогая рукой направил член в ее самое сокровенное место. Положив на ее спину руки я понял: «Теперь-то инициатива на моей стороне!» И начал совершать размеренные движения. Сладкий стон возвестил мне о правильности мыслей. А через несколько минут я начал сильно ударять своим тазом по ее попке, увеличивая темп. И скоро радостный крик возвестил мне об ее успешном финале. Но и мне оставалось не долго… И теперь я готов был заорать в экстазе. Я обнял ее за талию наклонившись и целуя спину. Она выпрямилась и повернулась ко мне. Я припал губами к ее соску, ласково смотрящего на меня, обнимая некоторое время, а она запустила пальцы в мои волосы. И мы пошли одеваться. Мне стало все предельно ясно! Симпатичная крошка хочет потрахаться немножко. Так вот чего ей летом не хватало! Одинокой леди надоело томиться неудовлетворенными желаниями и прожигать молодость понапрасну?..
Встречи продолжались.
После обеда мы часто ездили кататься и заезжали в избушку. Никто больше не торопился, спешить нам было незачем, опасаясь что кто то прервет наши неприличные занятия. И я уже со знанием дела, уверенно хватал ее за упругую задницу, притягивая к себе и помогая освободиться от лишней одежды, лез к ней в трусы, жадно лапая ее где только можно. А где было нельзя? — позвольте спросить. Ну а после, мы бросались в страстные объятия. Она опускалась вниз, поджигая меня и заводилась сама. А потом мы переходили в более активную фазу наших отношений.
Я торжествовал. Самолюбие мое было удовлетворено. Эта богиня, третировавшая меня днем, была моей послушной любовницей вечером, делала сцены ревности, когда я оглядывал проходивших девчонок, говорила, что только в моих ласках она поняла счастие любви. Ни одна душа не догадывалась о наших отношениях. Такой скромный любовник, как я, и нужен был этой женщине, боявшейся светской молвы как огня, но от этого не менее стремившейся к полной и насыщенной жизни.
Я вошел во вкус, и мне стало мало одного раза. Как то собираясь в обратный путь я внезапно понял, что ничто не мешает продлить общение с девушкой. Я крепко схватил ее, оттаскивая от лошади и повел к столу, начал снова раздевать, не говоря ни слова. Она попыталась отстранить меня, но я, возбудившись еще сильнее, удержал ее от всяких попыток мне помешать. Растегнув ширинку, просунул ладони под резинку трусов и спуская их вместе со штанами до колен, повернул к себе спиной и резким выпадом ввел член, прижавшись к ее загорелой попке. Замерев на некоторое время, я восхитился своему открытию. Теперь она будет принимать меня по два раза! И с опозданием и надеждой, спросил. — «Повторим?» Но она, видимо, была со мной уже на одной волне, так как я не услышал
внятного ответа… А потом я помог оправить ее слегка помятую одежду да и ее саму, впервые взяв ее силой и извиняясь, что не мог ничего с собой поделать.
У меня появилось сильное влечение к этой женщине. Мне стало жизненно необходимо хотя бы раз в день снимать сексуальное напряжение. Я ходил сам не свой и пытался отделаться от этой напасти. Пробовал несколько раз отработать Елену больше, чем мне было нужно, то есть впрок. Но ничего не помогало. И на следующий день я опять вспоминал ее влажную щелку, манившую меня к себе и затмевавшую остальные мысли. Пришлось сдаться. Ну что же, раз уж судьба подарила мне эту обворожительную кису то надо бы воспользоваться или лучше сказать попользоваться как следует. Разнообразие поз и всяческая готовность продолжать любовные игры, познавая свою сексуальность и тайные способности становившейся опытной женщины, открытыми пока лишь для меня, показывали ее полное единодушие с моими планами, уже заставляя скучать по ее влагалищу, которое стало мне самой дорогой и близкой частью ее тела. Я давал волю рукам, гладя и ощупывая Елену между ног, уже одетую, как бы прощаясь с ней до следующего раза или шлепал по попке, помогая садиться на лошадь.
Я не знал чего еще можно желать, но все же не хотел позволять себе поддаться на ее любовные чары, не видя с ней больших перспектив для длительных отношений. Бросить все, мужа и город и отправиться навстречу неизведанному? Как это романтично и захватывающе! Да чтобы содержать эту куколку не хватит сил и жизнь покажется каторгой. И за что? За то что дает репетитору? Хватит и того, что заодно с летней подработкой мне удается еще и практиковаться в другой сфере с привычным оргазмом в тело очаровательной хозяйки.
«Тебе там не очень мокренько скакать обратно, с вытекающей спермой в трусики без возможности сменить их перед людьми, встречающими нас в конюшне?» И желание побыстрей уйти к себе, сославшись на усталость, чтобы своим (или моим?) запахом не выдать нас. А может ты и засыпаешь в них. Надо будет проверить часто ли меняешь, стягивая их с округлых бедер на следующем свидании. Когда ты мило смыкаешь ножки, как послушная девочка, демонстрируя их внутреннюю идеальную линию, идущую от треугольного, волнительно сужающего вниз лобка, который она начала гладко выбривать, подготавливая себя для регулярного секса.
А через несколько времени, когда ночи стали темней, я лазил из сада к ней в спальню, и она ждала меня, встречая горячими объятиями, тихим смехом и сладостным лепетом…
В прохладные дни она носила короткую сорочку и я жарил ее прямо в ней просто задрав материю снизу или сверху освобождая бюст, а она сдержанно стонала, боясь громким певучим голосом разбудить дом. Однажды она полусидела в углу диванов на подушках. Я был у ее ног и отдыхая подумал что пора и мне отблагодарить ее чудное место. Бережно хранимое, доступное весьма не для многих, как ценный приз, который она вручит только тому кто сумеет ее покорить. Чтобы дарить самое острое наслаждение, которое мужчине суждено испытать в жизни. Я просунул руки под ягодицы и пододвинул ее цветок удобнее к своему рту. Стройные ноги распахнулись как ворота рая вместе с розовыми лепестками своего набухшего бутона. Я стал нежно вылизывать его, как что то очень дорогое и незаменимое.
И поднимаясь вместе со своим членом, решительно навис над ней. Ну что, еще одна яркая вспышка в копилку нашего общего счастья? Плотно обняв моего дружка внизу своим узким кольцом, она положила руки мне на пояс. А я вжимал ее таз своим весом, делая свободными верхние части наших тел. Мы долго могли находиться в такой полулежачей позиции не уставая и не сковывая друг друга, слушая биение наших сердец, тяжелого дыхания и сладко целуясь, пытались слиться в одну плоть. В такие минуты, активно вставляя ей, я замечал, что она начинала смеяться непонятно чему и закатывала голову, когда я окидывал ее взглядом, улыбаясь в ответ. Дурея прямо на глазах. И высовывала язык. Который я подхватывал своим ртом, пытаясь определить, где она сейчас вкуснее: сверху или снизу. Или наоборот, когда я увеличивал длительность монотонных фрикций сосредоточенно и напряженно замирала, опуская голову и глаза, чтобы наблюдать за моим, двигающимся внутри нее органом, как будто там было что то интересное. Из такого оцепененного состояния я выводил ее только взяв в рот торчащий сосок или неожиданно (для нее) впрыскивая сперму в розовую тесноту. После чего она обиженно поджимала губки, бросая на меня быстрый укорительный взгляд и доводила себя рукой, ловя свой фонтан удовольствия, который так внимательно ждала.
Перед сном она вставала прикрыть окно, и проходя мимо я всегда обнимал ее длинные ноги, прижавшись лицом целовал ее воздушный шарик, пробовал мять его как тесто и раздвигая ягодицы, разглядывал как редкую вещь. От чего она довольно улыбалась, а потом устав просила. «Ну, хватит. Пусти уже. « И если жажда снова накатывала мне в ствол, я шел за ней следом и прижимая к стене у окна доводил до исступления.
Временами я совсем терял голову пытаясь сношать ее до бесконечности за ночь, не понимая поначалу, почему я не могу снова кончить. В такие моменты я с какой то бешенной злостью долбил ее, как будто виноватую. Отдыхая в небольших паузах, а потом вновь принимался плющить Елену об койку. И в тоже время жалобно вопросил: «Почему ты не хочешь подарить мне ну хоть еще один миг блаженства?» В конце концов, крепко сжимая ее обеими руками за грудь и вымучивая остатки я падал рядом весь в поту, выбившийся из сил. И ничего больше не мог делать.
Позднее мы решили не увеличивать количество половых актов. Но иногда я не мог отказать себе в небольшом марафоне. Мне нравилось выжимать из себя и из нее последние соки. В такие минуты она тщательно следила за моими судорогами, подаваясь навстречу и помогая взрываться, довольно осознавая, как ее безумно хотят.
Через месяц я стал холодней. Елена Александровна потребовала объяснений. Я сослался на болезнь, но она стала недовольна и подозрительно заглядывала мне в глаза. Залезала сверху и дергалась, пытаясь оседлать или ложилась на постель передо мной, выгибала спину и раскинув ноги приглашала любить ее и все ее великолепное тело. Медовый месяц страсти прошел. Пришло время обыкновенной случайной связи.
Наступил август.
В одно прекрасное утро ей позвонил Рязанов, что скоро приедет. Елена Александровна казалась очень обрадованной и веселой. Я, признаться, струсил. А вдруг она в порыве признается мужу? Я намекнул ей об этом. Она весело расхохоталась и шепнула:
— Глупый! Разве я отпущу тебя? — и прибавила: — мы будем опять кататься верхом!
Рязанов приехал, веселый и довольный; в последнее время Рязанова часто звонила ему и звала его приехать. В течение месяца, который пробыл Рязанов в деревне, он был постоянно весел и счастлив. Елена Александровна как будто изменилась: не капризничала, не делала мужу сцен и даже позволила ему спать в спальне. Он благодарил меня за занятия с сыном и был предупредителен со мной.
После обеда он нередко просил меня ехать кататься с его женой и часто делал замечания Елене Александровне за то, что та недостаточно со мной любезна… Но чем сильнее она притесняла меня перед людьми, тем яростнее я драл ее как привокзальную сучку, когда мы оставались одни. Мы ходили с Леонидом Григорьевичем вдвоем рыбачить. Рязанов все более и более ко мне привыкал и однажды спросил меня, не желаю ли я работать в его бизнесе? Я, конечно, пожелал.
— Мне нужен технический переводчик! — сказал он. — Вы знаете язык хорошо. В скромности вашей я уверен, в трудолюбии тоже. Хотите?
Я, конечно, рассыпался в благодарности.
— Работы у вас будет много, но жалованье у нас невелико. Впрочем, мы пособим и этому. Я вам еще устрою место в профкоме… так что вы будете получать тысячи три, а впереди дорога для вас открыта… Такой способный молодой человек, как вы, не может остаться незамеченным.
Он попробовал меня, дал составить резюме из огромной докладной записки и остался очень доволен моей работой…
Когда на другой день мы ехали по лесной глуши с Еленой, то она сказала:
— Предлагал муж тебе место?
— Да… и этим я, конечно, обязан вам?
Она засмеялась, как ребенок, веселым смехом и проговорила:
— Вы всем обязаны себе, мой красивый и скромный Ромео!..
Она весело болтала, рассказывала, как сделает меня секретарем благотворительного общества, в котором она председательствует, как мы будем ездить вдвоем посещать бедных и как она будет смотреть, чтобы я в Москве вел себя хорошо…
А я?… Я ехал и думал, как скоро судьба помогла мне. И как удачно все получилось. Мы остановились у знакомой избушки. И зайдя в наше гнездышко, я выразил свою признательность нашим новым совместным вызовом: дважды отделать ее, не вынимая.
В сентябре я приехал с Рязановыми в Москву и скоро получил обещанное место. Жизнь моя изменилась. Я жил в приличной квартире, работал, познакомился с порядочными людьми и принимал у себя тайком Рязанову. Я достиг своей цели и мог сказать наконец, что живу так, как люди живут… Будущее манило меня блестящими картинами, а пока и настоящее было хорошо. Ко мне все относились с уважением; чиновники заискивали в переводчике Рязанова, а сам Рязанов не чаял во мне души и радовался, как дурак, когда через четыре года супружества у него наконец родился сын…
Те самые люди, которые год тому назад не протянули бы мне руки, теперь относились с уважением к солидному молодому человеку, принятому в порядочном обществе. У меня было положение, была будущность; оставалось приобрести состояние, и я решил, что и оно у меня будет…
Я съездил в свое захолустье, к матушке, и застал ее в большом горе. Лена, как я и предвидел, кончила скверно, отыскивая какую то дурацкую свою «правду».
Я старался успокоить старушку, но она была безутешна и все просила меня похлопотать за нее у Рязанова.
Но разве мог я, не компрометируя себя, просить за сестру, и у кого? У Рязанова?
Разве я мог сказать слово в защиту глупой, смешной девчонки?
Я старался объяснить это матушке, но она как то странно посмотрела на меня, залилась слезами и с укором заметила:
— Рома, Рома! Что сказал бы твой отец?
— Покойный отец был непрактичный человек, мама!
— А ты… ты слишком уж практичный! — грустно прошептала она и простилась со мною очень холодно.
Глупая старушка!
Она не понимала, что я был прав и что в жизни бывают положения, когда надо заставить молчать сердце и жить рассудком. Благодаря тому что я жил рассудком, я выбился из унизительного положения.
Прошло несколько лет, я расстался с Рязановой. Уж очень ревнива стала она к столичным девицам, и наконец связь наша могла компрометировать меня в глазах общества.
Она стала упрекать меня, говорила, будто я погубил ее, но, как умная женщина, скоро поняла, что говорит глупости. Елена Александровна, впрочем, утешилась, отыскав другого юного любовника.
Я имел положение и средства. Я был счастлив.
Оставалось увенчать счастие семейной жизнью, и я стал приискивать приличную невесту…
Вспоминая прошлую жизнь, я с гордостью могу сказать, что обязан всем самому себе, гляжу на будущее с спокойствием и трезвостью человека, понимающего жизнь как она есть.
Только сумасшедшие, дураки или блаженные вроде Лены могут погибать в житейской борьбе, не добившись счастия.
Умный и практичный человек нашего времени никогда не останется наковальней.
Жить, жить надо!
Лучшие групповые порно истории — это категория эротических рассказов, которые фокусируются на сексуальных сценариях, involving несколько партнеров одновременно. Эти истории могут включать различные темы и элементы, такие как тройки, орги, множественные партнеры и другие формы группового секса.
Групповые порно истории могут варьироваться от романтических флиртов до откровенных сексуальных приключений, что позволяет читателям находить сюжеты, которые им интересны.
Хорошие рассказы часто содержат детализированные описания, позволяющие читателям полностью погрузиться в атмосферу и переживания персонажей. Эмоциональные взаимодействия и динамика между участниками также могут играть важную роль в истории.